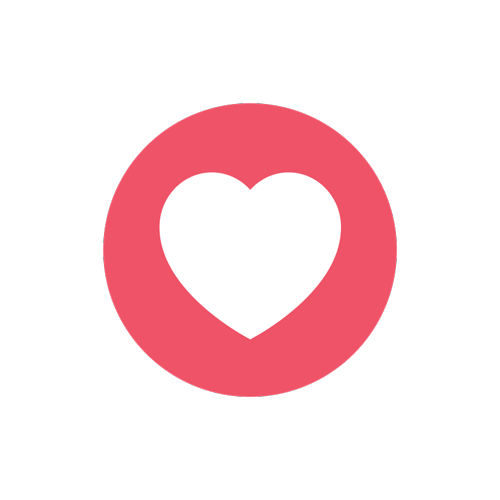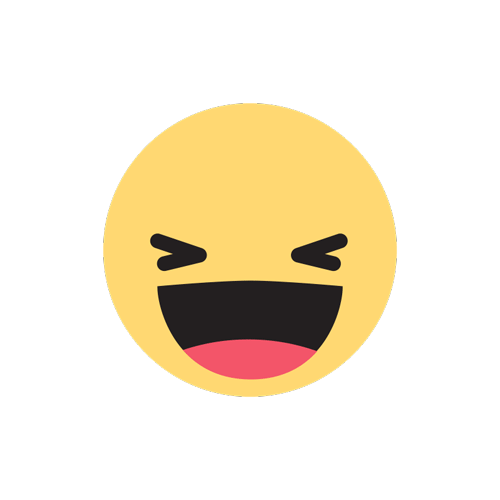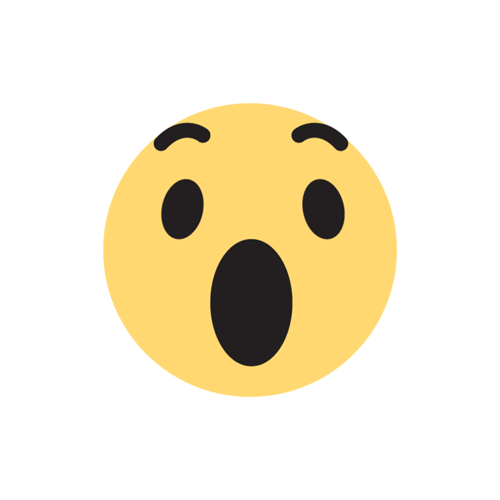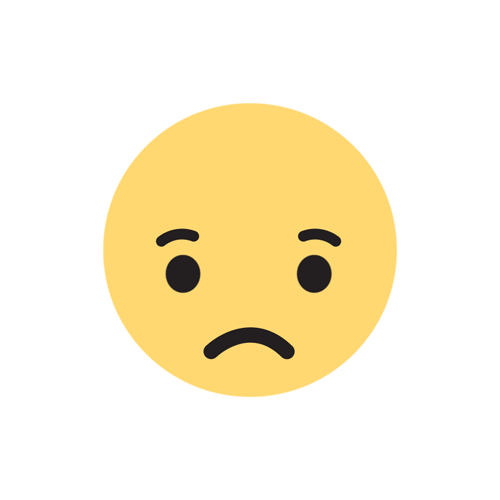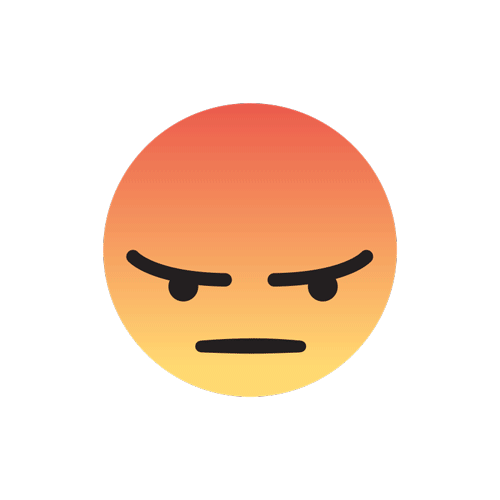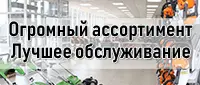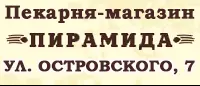Старик смотрел телевизор. Тот был большой, новый, необычно плоский. Звук был громкий, но так, чтобы соседи не стучали в стену. Когда старик получал квартиру, как фронтовик, сын купил заодно и этот большой телевизор непонятной марки — LG. Хорошо было раньше — «Рекорд», «Горизонт»… А сейчас кто его знает, что обозначают эти нерусские буквы? Показывает ярко, громко, да и слава Богу.
Старик жил один. Жена умерла давно, видно, сказались последние тяжелые роды третьего ребенка. Её спасли, а вот ребенка откачать не сумели. Супружница после этого еще пожила, конечно, да едва до семидесяти дотянула. Это он за девятый десяток перевалил, скрипит все ещё. Сын уехал в областной центр, поездом целые сутки пилить. Когда старик был покрепче, он ездил к нему разок, да вот уже лет двадцать как и никуда из своего махонького городка не выбирался.
Стал глухой, слабый, на улицу и то выходит очень редко, с помощью социального работника. Сын по возможности приезжает, да тоже, как сказать-то работа, то сам куда уезжает. Иногда его дети заедут, проведывают. В городе у него были родственники, дети брата, сами уже мужики в годах. Они и чаще бывали, и что-где сделать-не отказывали. Летом даже на речку вывозили, ухой кормили. Устал там, правда…
Квартира была светлая, хорошая, да и этаж первый. Социальный работник — шустрая женщина Мария, приходила к нему утром, варила супчик, кашки, разговаривала с ним, убиралась в комнате. Потом сидела напротив и слушала, как он вспоминал свою жизнь, рассказывал стихи, которые в молодости знал, а сейчас они всплывали у него в памяти, иногда и не вовремя…
Мария была хорошей, с ней он стал себя чувствовать лучше, бодрее, всегда ждал её прихода. Нежно звал Машенькой, говорил ей комплименты. Когда он уже не смог выходить на улицу, тишина и одиночество так стали давить на него, что он уже всерьез подумывал наложить на себя руки. Тяжело было душе в четырех стенах. Спасибо вот, предложили ему со службы социальной защиты работника, хоть смысл появился его жития…
Иногда она доставала по его просьбе коробку с документами, раскладывала на столе орден Красной звезды, медали, старые и юбилейные, удостоверения, справки. Самыми ценными были фотографии. Их было мало, здесь хранились снимки только военного времени, другие хранились в альбоме, большом и важном. На них он был красивым парнем, молодым, стройным! Бравый вояка! Одна была фотография, где он после госпиталя стоит в кальсонах, костыль под мышкой, с такими же бедолагами, как и он, худой, стриженный. Вид, конечно, еще тот.
Хорошо, что вообще жив остался. Это его тогда под Варшавой накрыло. Троих насмерть, а ему посчастливилось выкарабкаться. Мясорубка там была знатная. Как вспомнит, так нога, сложенная из кусочков, ныть начинает свербящей болью. Он и Победу встретил в госпитале, все жалел, что до Берлина не довелось добраться, плюнул бы на ступеньки фашистского логова. На фотографии он был гвардии сержант Александр Петрович, Сашко, как звали его боевые товарищи. Отец его тоже воевал, но его на Курской дуге перемололо, лишь по кровавому куску гимнастерки, в кармане которой лежала солдатская книжка, да по словам очевидца, определили факт его гибели… А то так бы и числился без вести пропавшим…
Александр Петрович не обижался на свою жизнь. С войны пришел битый, но целый, живой. После, в мирное время, работал шофером, женился, дети народились, позже внуки. Все путем, все хорошо, грех жаловаться. Жену любил, бабенок гладил-мужики в дефиците были, что ж поделаешь, ласки всем хотелось. Ему, как фронтовику-орденоносцу, красавцу, трудяге и семьянину, вообще двери были открыты, уважали его все, кто знал. Сыны тоже получились бравые, домовитые. Вот только сам сдал, доживал последние годы, и сам знал, что доживает… К этому относился спокойно, с той житейской мудростью, что отличает человека трезвого и умного от человека глупого, суетливого…
За окном стемнело, заснеженные ветки деревьев крестами перечеркивали проём, искрились в свете проезжавших машин. Совсем недавно отшумел Новый год, люди втянулись в рабочие будни, спешили по домам. Под окном смеялись ребятишки, возвращавшиеся со школы, что-то кричали, толкались. Они не знали войны, голода, им было просто хорошо. Это и правильно, у детей должны быть друзья и детство. Это вот у него уже один друг остался — телевизор.
По экрану побежали кадры знакомой заставки информационной программы. Перед юбилеем Победы много было документальной хроники, тем более, что открыли материалы военных архивов. Опять война, опять гибель наших солдат. И он с ними, молодой, красивый, бежит с автоматом наперевес, спотыкается о груды кирпича, врывается в разрушенные здания. Нет, на экране был не он, автоматчик, простой пехотинец, не он бежал и падал.
Это он сейчас переживал, бежал, стрелял вместе с теми, кто в скупых отрывистых кадрах военной кинохроники освобождал Польшу. Спустя семьдесят пять лет, в далеком сибирском городке, это он вставал в один строй с бойцами, бегущими по экрану. Сердце колотилось от воспоминаний, от жгучей болезности узнавания и переживания, от почти реального ощущения того боя. Закололо за грудиной, сжалось все в мерзлый комок боли.
Александр Петрович пошарил по столику, нащупал приготовленную Машенькой таблетку, запил её остывшим чаем. Отпустило, но навалилась странная ватная тишина. Кадры на экране сменились. Сейчас там на фоне флагов президент Украины и еще какой-то мужик беззвучно что-то говорили, улыбались друг другу, в приветствии жали руки. Затем снова появился диктор, пошли кадры каких-то работ. То ли строили памятник, то ли ремонтировали, понять ничего было нельзя.
Фронтовик откинулся на спинку дивана, прикрыл глаза, успокаивая дыхание. А на экране Украина и Польша переписывали историю своего освобождения…
Надежда Дегтярёва, Тайшет